 |
Мария Викторовна Михайлова —доктор филологических наук, профессор филологического факультета имени М. В. Ломоносова, член Союза писателей Москвы, академик РАЕН. |
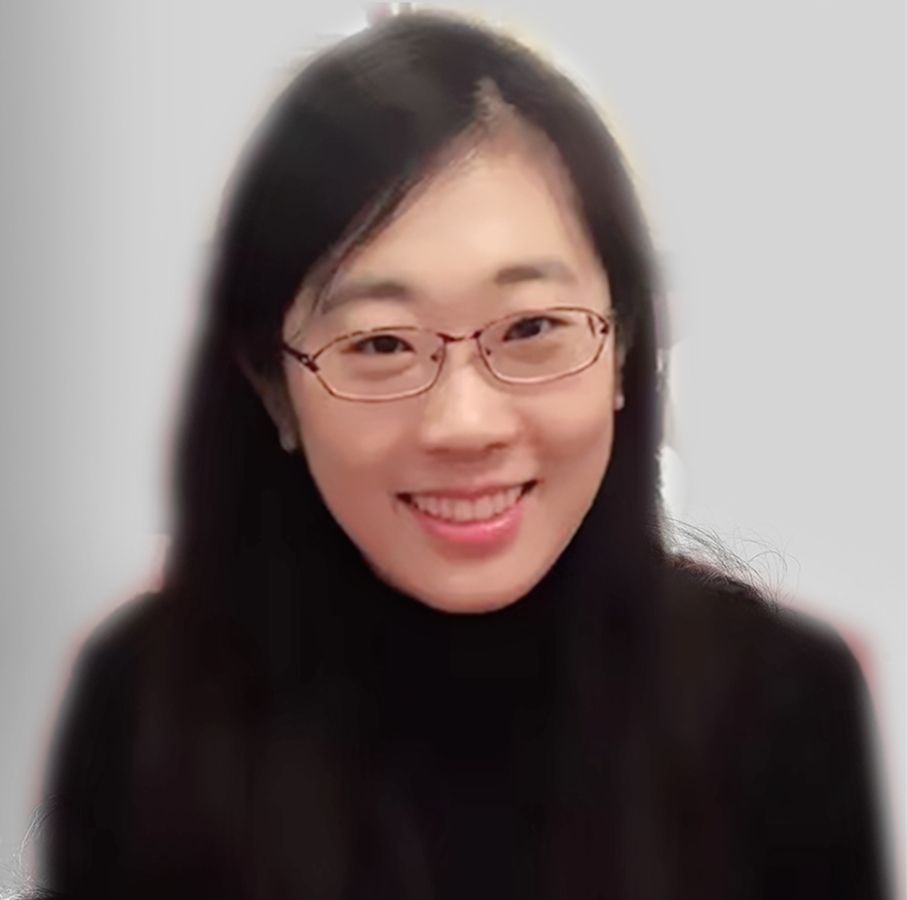 |
Ван Инь получила степень бакалавра филологии на факультете русского языка Хэйлунцзянского университета в 2008 г. (Харбин). Поступила в магистратуру филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2011 г., которую окончила в 2013 с красным дипломом. В 2014 г. поступила в аспирантуру филологического факультета накафедру истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса. В настоящее время завершает работу над диссертацией. |
КИТАЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БУНИНСКИХ «УРОКОВ» В ЛИТЕРАТУРЕ
Произведения И. А. Бунина уже давно перешагнули границы России. Европа оказалась покорена его талантом ещё при жизни писателя. А вот в Азии с ними начали знакомиться позднее, в Китае, например, с начала 20-х годов ХХ века. Тогда были переведены «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга» (вероятно, в последнем привлекли именно восточные мотивы). Возможно, дело было в трудностях перевода. Насыщенная деталями, так называемая «парчовая» проза этого художника требует при переложении на другой язык тончайшего проникновения во внутренний мир писателя, знания его приоритетов, особенностей его мировоззрения. Оживление наступило в связи с известием о присуждении Нобелевской премии в 1933 г., но подлинного интереса не возникло. А впоследствии, в социалистическом Китае, имя Бунина вообще было отодвинуто в тень. Ещё бы — человек изменил родине. Новое рождение этот автор в Китае пережил в начале 90-х годов, когда заметно возросло количество и качество переводов, появились исследовательские работы, посвящённые ему.
Однако, думается, что китайское буниноведение ещё не вошло в стадию расцвета. Тем приятнее__ появление молодого исследователя, который хочет заниматься наследием этого художника (правда, после подсказки научного руководителя, которым я являюсь для Инь Ван, которая ранее изучала творчество А. П. Чехова).
Когда Инь решила писать кандидатскую диссертацию, она ещё не определилась с выбором темы. И я при встрече с нею рассказала о жизни Бунина за рубежом, о его пребывании на юге Франции, в Грассе, который на долгое время стал центром притяжения литераторов, вынужденных покинуть Россию. Среди них были представители старшего и младшего поколений. Последние даже образовали нечто вроде «школы Бунина». И в этой школе «обучались» Галина Кузнецова, Николай Рощин, Лев Зуров. Вот этой молодой порослью и заинтересовалась Инь, выделив среди учеников именно Кузнецову как оставившую о Бунине неоценимое свидетельство — Грасский дневник. Прочитав его, Инь решила, что она должна писать работу именно об этом документе, в котором воссозданы факты жизни писателя, но при этом его облик увиден глазами и преданной ученицы, и влюблённой женщины, и закрепляющегося в профессии прозаика и стихотворца — Галины Николаевны Кузнецовой. Всё это вместе позволит говорить о создании на страницах дневника именно образа Бунина, который можно сопоставить с теми произведениями писательницы, где он возникает как прототип главного героя (повесть «Художник») или как один из персонажей документальной зарисовки «Друзья».
Вот эта «перепроверка» художественного материала документальным (и наоборот) и явилась самым привлекательным при дальнейшей работе над текстом «Грасского дневника» и текстами произведений Кузнецовой. И это, в свою очередь, помогло делать наблюдения над созреванием Кузнецовой как писательницы, говорить о росте её мастерства, об её умении учиться у мэтра и одновременно поставить вопрос о тайнах творчества, о психологии художника как творческой личности. Внимание китайского исследователя к грасскому периоду жизни Бунина, к тому влиянию, которое он оказывал на окружающих, очень ценно, поскольку в Китае эмигрантский период его деятельности ещё мало известен. И это при том, что именно в Грассе в этом году открыли памятник писателю, словно бы указывая на место, где были созданы его величайшие творения, в т. ч. «Жизнь Арсеньева». О Галине Кузнецовой в Китае, думается, вообще не слышали. И это тоже будет в какой-то мере открытием для литературоведов и читателей.
Работа Инь Ван в итоге получила название «“Грасский дневник” Г. Н. Кузнецовой: проблема становления творческой личности». Она почти завершена. И фрагмент из неё предлагается ниже. Поскольку работа с молодым китайским филологом проводится очень интенсивная, иногда отдельные статьи, как эта, создаются в соавторстве с научным руководителем.
КНИГА КАК СРЕДОТОЧИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОРЫ НА ВИЛЛЕ БЕЛЬВЕДЕР (ПО СТРАНИЦАМ «ГРАССКОГО ДНЕВНИКА»)
С литературы началось знакомство молодой поэтессы Галины Кузнецовой, опубликовавшей всего несколько стихотворных и прозаических опусов в пражских изданиях, с Буниным. Вот как она описала этот момент: «И вот я сидела перед Буниным и смотрела на свою тетрадь в чёрном клеёнчатом переплете, которую он бегло перелистывал. Не помню, о чём мы говорили. Помню, что он спросил меня, на каком факультете я была в Праге, когда приехала, что думаю делать дальше. Потом спросил:
«Кого же из поэтов вы больше всего любите?»
Я ответила не совсем честно − я любила не одного, а нескольких. Ахматову, Блока и, конечно, Пушкина:
− Гумилёва.
Он иронически засмеялся.
− Ну, невелик ваш бог!
Я ушла охлаждённая, разочарованная. Бунин показался мне надменным, холодным. Даже внешность его − он, впрочем, был очень моложав, с едва седеющими висками, − показалась мне неприятной, высокомерной. Я решила забыть о своей тетради и о своём знакомстве с ним. Я не знала, что этот человек в свое время окажет на меня большое влияние, что я буду жить в его доме, многому учиться у него, писать о нём» (1) .
Уроки Бунина, его облик, отзывы его о литературе, противоречивость его натуры, сложность внутренней жизни самой Кузнецовой — всё это мы найдём на страницах «Грасского дневника». Но едва ли не самое интересное — это те характеристики писателей и книг, которые оттачивались во время совместных чтений вслух, что было традиционным занятием в Грассе — причём читал обычно сам Бунин, сам же и выбиравший книги для чтения. Но немало книг было им и рекомендовано Галине, возможно, именно с целью приобретения навыков писательского мастерства. Однако, думается, что и она сама формировала свой круг чтения, избирательность которого бросается в глаза, когда она приступает к почти ежедневным записям. Тогда она начинает в большом количестве читать или дневники, которые вели писатели, или биографические книги о них, или записи тех людей, кто наблюдал их ежедневно. Причём, что самое любопытное, часто выбирает именно то, что написано женщинами, из чего мы можем заключить, что ей важен именно «женский взгляд» на происходящее. Этот «женский ракурс» очень чувствуется и в «Грасском дневнике», который ведёт женщина, занимающая несколько сомнительное положение на вилле «Бельведер».
Кто она? Ученица? Возлюбленная? Наперсница? Подруга жены Бунина? Хозяйка, принимающая многочисленных гостей? Эти мучительные переживания пробиваются сквозь внешне объективный, а порою и бесстрастный тон дневниковых записей. И, возможно, именно они послужили причиной разрыва отношений с Буниным, приведшего к эпатирующему уходу Галины с Магдой Степун, ставшей её подругой на всю жизнь.
Но если мучительные сомнения и колебания становятся с течением времени все более определёнными, настойчивыми, то они не отменяют, а даже, скорее, оттеняют бьющую ключом интеллектуальную жизнь, которую ведут все обитатели виллы. И этот интеллектуальный накал становится особенно очевиден при обсуждениях прочитанных книг, при осмыслении тех импульсов, которые каждый из них получает от чтения. Круг чтения является важной составляющей мировоззрения и художественного мира каждого из живущих на вилле людей, и не только их, но и приезжающих к ним гостей, среди которых и супруги Мережковские, Фондаминские, Ирина Одоевцева, Нина Берберова и мн. др.
Яркий пример значения, которое может приобрести книга, — обсуждение получившего всемирное признание дневника Марии Башкирцевой. Не исключено, что внутренним противодействием вкусам и приоритетам Бунина было продиктовано решение Кузнецовой написать о ней статью, ибо он однозначно не принимал автора упомянутого дневника. Известно такое его мнение: «Всё говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит её надменно-вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю её брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава Б<ашкирцевой> (основанная ведь больше всего на этом__дневнике) непомерно раздута. Снова очень непр<иятный> осадок от этого дневника. Письма её к Мопас<сану> задирчивы, притязательны, неуверенны, несмотря на всё её самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и <в> конце концов пустяковы. Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно умствовать; и всё − наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования»(2). Правда, позже, уже в 1942 г., он переменит это убеждение, записав, что финал дневника «примирил» его с автором и он даже готов признать, что у бедной девушки была «действ<ительно> несчастная судьба».(3)
Значит ли это, что ранее он дневник не дочитывал до конца? Интересовался ли он тем, что написала о Башкирцевой Кузнецова? Одобрил ли её взгляд на Марию? Об этом ничего не известно, однако смеем предположить, что обратился он спустя 15 лет к этому дневнику во многом и потому, что что-то уже тогда, в конце 20-х крепко засело в его сознании.
Во всяком случае, можно быть уверенным, что Кузнецову к написаниюэтой работы подтолкнули соображения Бунина о Башкирцевой, которыми он, конечно же, с нею делился. Возможно, что она хотела воспротивиться, во-первых, мнению И. А. Бунина о независимости и надменности Башкирцевой, поскольку косвенно чувствовала в этих словах упрек себе, т. к. сама пыталась, хоть и робко, но отстоять собственную независимость. А, во-вторых, мэтр явно хотел принизить привлекательность Башкирцевой, что тоже не могло не задевать Кузнецову, т. к. в этом она могла видеть стремление отвлечь её внимание от её собственной наружности. И наконец, в-третьих, в указании на неподобающий тон в письмах Башкирцевой к Мопассану она могла прочитать требование относиться к Бунину с особым почтением, «не задираться», не проявлять «самомнения». Т. е. можно сделать предположение, что его замечания по отношению к Башкирцевой она принимала на свой счёт. И если не могла сопротивляться в реальной жизни, то пробовала это делать через «литературный дискурс», что подтверждается и нарастанием её недовольства характеромИ. А. Бунина, прорывающегося на страницах «Грасского дневника». Но в тоже время она не могла не принимать во внимание суждений Учителя.
Возможно, поэтому работа над очерком шла так трудно. Об этом говорится в дневниковых записях: «Пишу Башкирцеву страшно медленно. Тащусь, как сквозь бурелом» (запись от 12 ноября 1928 г.). Но всё же в конце месяца ей удается закончить работу и отослать в парижскую газету «Последние дни» и получить от помощника редактора подтверждение, что она принята: «“Башкирцеву получил. Очень хорошо и, конечно, пойдёт”» (запись от 26 ноября 1928 г.)(4). Нам удалось найти этот материал на страницах газеты: публикация состоялась 12 января 1929 года.
По жанру, созданное Кузнецовой, — биографический очерк. В нём очень чувствуется бунинское влияние. Башкирцева предстаёт вздорной, капризной, опьянённой мечтами о славе, стремящейся к блеску и почитанию. Бунинские интонации чувствуются в высказывании, что суждения её «нарочиты и поверхностны». Но в то же время совершенно ясно, что Кузнецова пытается выявить причины такого поведения своей героини. И, что ещё важнееуловить тенденции к изменению характера и зафиксировать эти изменения. Источником вызывающего поведения автора дневника она видит изгойство, невозможность из-за семейных обстоятельств чувствовать себя на равных с представителями того общества, в которое стремится попасть Башкирцева. Поэтому в строках статьи явно прочитывается, что весь напыщенный романтизм, мечты о богатстве, блестящей партии продиктованы желанием компенсировать своё несколько униженное, как ей видится, положение, стремлением доказать, что она что-то из себя представляет. Кузнецова даёт понять, что за всем этим стоит болезненное уязвлённое самолюбие. Также очевидно то уважение, с которым Кузнецова описывает овладевшую Башкирцевой идею стать выдающейся художницей, добиться необходимого мастерства, и прочитывается явное огорчение автора, что не суждено было той из-за болезни осуществить это. Вполне вероятно, что в упорстве, с которым Мария приобщается к искусству живописи, Кузнецова видит аналог своим усилиям. В любом случае то, что вышло из-под пера Кузнецовой, любопытно именно «соединением» бунинских «заветов» и собственного взгляда на такое незаурядное явление, каким была личность Марии Башкирцевой.
Обращение к дневникам и письмам английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд (Бунин по её просьбе привез книгу, изданную в 1927 на английском языке, из Канн), можно считать, по-своему, симптоматичным. Она с предельной пристальностью вглядывается в их строки, ища у автора аналогичных своим сомнений, обнаруживая «те же симптомы общей писательской болезни»: стремление к одиночеству, с одной стороны, и «тягость одиночества», с другой. И вот вывод, который она делает в процессе чтения: нужно «заниматься прежде всего воспитанием себя, себя, себя» [с. 289], не отвлекаясь даже на творчество. А по поводу мемуаров дочери Тютчева она замечает: «Как написана смерть Николая I - ого! Страшно делается» [с. 127]. Т. е. её потрясает мастерство изобразительности, на которое способна женщина. Она вчитывается в записки Сушковой о Лермонтове. Это та книга («Записки, 1812—1841», Л., 1928), в которой рассказывается история её отношений с Лермонтовым в годы его учения в Университетском пансионе и в 1835 г. в Петербурге. И хотя Кузнецова, опять-таки, с подачи Бунина фиксирует тот момент, что все, «стоящие у трона» не имели широкого круга общения и интересов, думается, что для неё не менее важно то, как автор записок воспринимает начинающего поэта, что в нём подмечает, как характеризует их взаимоотношения...
Она читает книгу стихов(5) близкой к символизму Анны де Ноай (Anna de Noailles). Показательно, что эту книгу покупает Кузнецовой Бунин, который обычно «громит» символистов: «Днём ходили с И. А. в город, и он купил мне книжечку стихов де Ноай» [с. 49]. На чём основан его выбор — неизвестно. А вот об авторе Кузнецова могла знать следующее: в 1897 г. Анна вышла замуж за маркиза де Ноай, их дом стал центром светского и интеллектуального Парижа, она оказалась первой женщиной, принятой в Королевскую академию французской литературы и языка Бельгии, в 1910 г. французской академией была даже учреждена премия Анны де Ноай. А в 1921 г. она сама удостоилась Большой литературной премии Французской академии.
В начале своего пребывания в Грассе Кузнецова ещё преисполнена амбициозных мечтаний, она ещё не разочаровалась в обстановке и окружении, и вполне готова примерить такое блестящее будущее на себя. И Бунин склоненвдохновлять её на литературные подвиги. Она пока не считает Грасс заточением, а напротив, видит в нём в некотором роде место притяжения для интеллектуальной и художественной элиты русской эмиграции во Франции. А поскольку ей известно, что салон Ноай в Париже посещали П. Валери, П. Клодель, П. Лоти, Ф. Мистраль, она может сравнивать цвет французской литературы с окружением Бунина. По крайней мере, ей может казаться, что бунинский круг не уступает парижскому... И она, зная о судьбе этой поэтессы, надеется получить от неё заряд бодрости и некий импульс, который поможет и ей продвинуться по намеченному пути. Она так и записывает, что, хотя и не полюбила её стихов, но ощущает в них «крупинки возбудительного», а ей часто нужен какой-то крючочек, с которого начинается писание [с. 49].
Что же касается запечатления облика писателя, то можно предположить, какое значение имела для неё реплика Бунина по поводу «воспроизведения» образа Анатоля Франса в книге Поля Морана «Париж-Томбукту». Бунин осудил «мелочность» подхода автора к изображению великого человека: «И это всё, что он мог сказать об Анатоле Франсе? И зачем он вообще пишет о таких пустяках?» Она понимает, что и ей в своём дневнике следует избегать такого подхода, в устах Бунина обозначенного, как«микроскоп и искусственность...» [с. 106, 107]. Думается, что значительно более полезным для неё оказывается знакомство с записями секретаря А. Франса Ж. Ж. Бруссона, составившими его книгу «Anatole France en pantoufles» (Paris, 1923), переведенную в 1925 г. на русский язык как «Анатоль Франс в туфлях и халате». Возможно, неслучайно эту книгу читает ей и Вере Николаевне Бунин вслух. Вероятнее всего, ему импонирует сочетание доверительности, интимности и уважительности, которое определяет интонацию повествования. Недаром Кузнецова замечает: «Конец слушали с особым интересом. И. А. охрип, у меня горели щёки», — и с огорчением констатирует: «<...> ни один критик не заметил главного — талантливости книги» [с. 69]. Представляется, что такого же мнения придерживался и Бунин. Иначе, зачем читать книгу вслух, подолгу, до хрипоты...
Кузнецова с интересом знакомится и с другими биографиями писателей. Во всяком случае, как следует из записи от 6 октября 1931 года, она читала книгу А. Моруа о Байроне. Спустя всего 5 месяцев после приезда она начинает читать «Жизнь Гёте» (комментатор издания дневника О. Р. Демидова предполагает, что это мог быть двухтомник А. Бельшовского «Гёте, его жизнь и произведения» в двух томах, вышедший соответственно в 1898 и 1908 гг.), что подтверждает наше предположение, что ей требуются образцы. Она даёт прочитанному такую характеристику: «Какое здоровье натуры! Мимо, мимо всего, всё чувствуя, но не погибая от своих чувств, не растекаясь в напрасных сетованиях на судьбу, любя жизнь, беспрестанно возобновляясь, любя искусство, свою молодость, расцветая опять и опять!..» [с. 68]. В этом восхищении Гёте, а она прямо и указывает на своё восхищение, чувствуется неявно выраженный упрек тем, кто иначе воспринимает жизнь. Себе? Бунину? Вполне можно допустить, что она уже начала понимать бунинский характер, в котором многое определяет упоение и страстное наслаждение жизнью, но есть и с готовность впадать в отчаяние при виде уходящей молодости, ощущая нелады со здоровьем и т. п. (она считает, что «у него ведь всё от внушения» [с. 94]). Однако и ей самой тоже свойственно раскисать и падать духом, хотя она и борется усиленно с этим свойством своего характера.
Подобное происходит, когда она задумывается о своём творчестве, о своих способностях и начинает сомневаться, готова ли посвятить тяжёлому писательскому труду свою жизнь. Чтобы понять, что же составляет суть существования творческого человека, она берётся за книгу о жизни Альфреда де Виньи и неожиданно открывает для себя, что «в каждой из таких [писательских. —В. И., М. М.] душ еcть одинаковые черты. Весьма знакомые и мне» [с. 81]. Полезным для неё оказывается и чтение книги о Некрасове (что за книга, установить не удалось), но она сокрушается, что «мало <...> о его истории с Панаевой. Хотелось бы знать побольше. Глухо очень и о ней, и об их романе, и о Панаеве» [с. 164]. Т. е. её явно интересует запутанная семейная жизнь писателя, из которой она тоже хотела бы извлечь урок. Приблизительно те же самые мысли возникают у неё и при чтении книг о Л. Н. Толстом. Она обращается к воспоминаниям дочери Александры, к книгам Н. Н. Апостолова «Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке» (М., 1928) и Т. И. Полнера «Толстой и его жена. История одной любви» (Париж, 1928), из которых тоже хочет почерпнуть знания о внутрисемейных отношениях Толстых, надеясь, что это поможет ей выработать правильную линию поведения.
И конечно, форму своего дневника, тип записей в нём она выбирает, опираясь на точку зрения Бунина, высказанную им при изучении дневников Блока, которые он читает «как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. “Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нём было здоровое...”» (с. 161). Важно, что такой взгляд формируется у Бунина на фоне стойкого неприятия блоковских стихов, что показывает Кузнецовой, что можно по отдельности «воспринимать» творчество художника и его личность. А хвалебные слова Бунина по отношению к дневникам Блока подтолкнули её к тому, чтобы насытить свой дневник замечательными портретными характеристиками, яркими картинами природы, тщательно обрисованными психологическими состояниями.
Приведённые примеры далеко не исчерпывают круг чтения, который приведён на страницах «Грасского дневника». Но даже такое краткое перечисление подсказывает, что, для проживающих на вилле Бельведер, чтение составляло неотъемлемую часть жизни. Книги давали ощущение счастья, приносили утешение, помогали постигать жизнь...
1 Новое русское слово. Нью-Йорк, 1970. 25 октября.
2 Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. Т. Франкфурт-на-Майне, 1977. С. 156—157.
3 Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. Т. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 139.
4 Кузнецова Г. Н. Грасский дневник. СПб., 2009. С. 105. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страницы в скобках.
5 Вероятно, речь идёт он книге «L’honneur de souffrir» (Paris: B. Grasset, 1927).